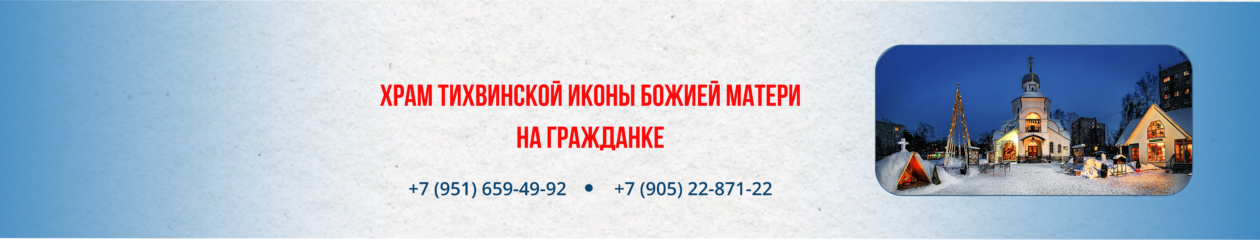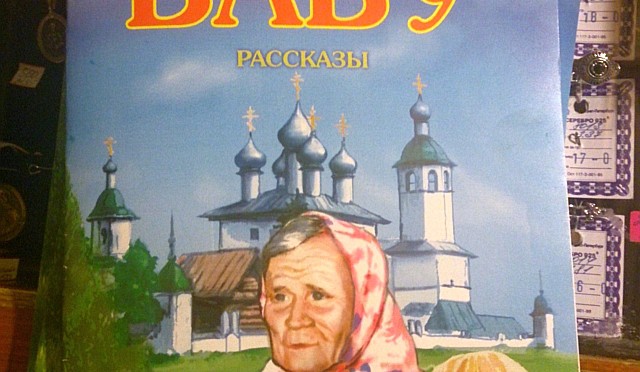«Предлагаем нашим читателям второе издание книги «Бабу». Автор — настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери на пр. Науки прот. Евгений Палюлин. Издание дополнено двумя рассказами «МАНЕФА» и «И ДАМ ТЕБЕ КЛЮЧИ ОТ ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО». В книге рассказывается о непростой судьбе обычных людей, на которых выстояла Святая Русь в годы безбожия 20-го века. Книга интересна с точки зрения этнографической, так как описывает быт классической русской деревни конца 20-го века, Книга художественная, однако, вместе с тем, интересна и как исторический материал основанный на реальных событиях. Рассказы представленные в книге рассчитаны на широкий круг читателей.» (Полюков. Г. И. Заслуженный учитель России).
Почему бабу? А этого не знает никто, даже я сам, привыкший с раннего детства и до глубокого совершеннолетия называть так своих бабушек. Было их четыре. Почему четыре? очень просто — это мамы моих родителей, сестра бабушки и сестра дедушки по материнской линии, последняя никогда не была замужем и жила в небольшой покосившейся зимовке — это то, что осталось от некогда большого родительского дома на окраине деревни с выразительным названием – Пирогово, на Вологодчине. Деревня славилась пирогами, запах которых висел в ранней дымке деревенского тумана; пьянящим дымком пасек, где десятками стояли пчелиные ульи; бряцанием подойников, в которые устремлялись струи парного пенящегося молока во время вечерней дойки; самогоном, который гнали накануне воскресных дней, пожалуй, в каждом доме; пьяными драками на Ильин день (так по- особенному чтили местные мужики великого пророка древности); белыми ситцевыми платочками на головах бабушек, (их надевали в великие церковные праздники) — так было вплоть до конца ушедшего теперь навсегда 20-го века… Уходят в вечность белые платочки, а с ними и запах пирогов, молока и меда, пустеет русская деревня, созидая в памяти сладкие воспоминания детства…
Вот, я уже почти взрослый…
Закончился первый класс, и на каникулы меня отвезли в деревню, это было и раньше, однако теперь я школьник и у меня есть три месяца беспечной деревенской жизни. Много спать, есть, пить парное молоко с пирогами, кушать мед, сидеть в малиннике и на грядке со спелой клубникой, ходить на речку и в лес — дел невпроворот, и все надо успеть!
Начало двенадцатого. Просыпаюсь от запаха трухлявого дыма — это растапливают дымарь для отпугивания пчел. При выходе к ульям дедушка иногда клал в него небольшой кусочек ладана. На сеновале оживление и топот… Высовываюсь из полога, так называли плотное домотканое полотно, палаткой натянутое над кроватью с матрацами, набитыми свежим сеном и соломой, и кричу:
— Баб?!!!
— Да спи еще, — слышу голос бабушки, — мы с де?дком идем к пчелам, рой вылетел — застать надо, а то в лес улетят.
Какой тут сон, уносить ноги и побыстрее! Эта пчелиная возня мне знакома давно. Вот скрипящая медогонка, ее уже выставили и установили на поленьях, скоро в ней начнет чавкать и переливаться искрящийся мед, и бачок приготовлен, куда мед сливать, а где мед, там и пчелы — их укусы мне известны тоже. Спешно одеваюсь, надо быстрее: мое воображение рисует огромный пчелиный рой, который несется над головой, только и думая о том, как бы меня словить и ужалить — ведь я очень люблю мед и, вероятно, они уже знают об этом… Огородами, не оглядываясь, босоногий, несусь на другой конец деревни в тихую зимовку другой бабу.
— Эту зимовку еще тятя строил, — рассказывает мне бабушка Таисия (я уже знаю: в русских деревнях тятей ласково называли отца), — уже после войны, в 47-м тяти не стало… умер от голода, свой хлеб отдавал детям.
— Как же так, — спрашиваю,- ведь деревня же, огороды, картофель и пшеницу можно было сажать?
— А вот так, — отвечает бабушка, — трудились и на своем поле, и на колхозном и почти все в колхоз отдавали, голод был, а воровать не умели — совесть не позволяла, нонче не так уже, а раньше не могли, и Бога, и совести боялись.
Бабушкина зимовка вся увешана иконами, в огромном окладе под стеклом Иверская, ее глубокий взгляд ловил меня во всех уголках небольшой комнаты. Я и раньше знал, что Бог видит все — бабушка рассказывала. Теперь я знаю, что и Богоматерь тоже все видит, и это совершенно очевидно. В других окладах поменьше — Успение, преподобный Сергий, Иоанн Креститель, Иов Почаевский и много других святых. Перед образами всегда горят лампады. Вот литографии 19-го века, на одной из них, скрестив руки на груди, изображена блаженная Таисия — это бабушкина святая….Вглядываюсь в ее лик и нахожу знакомые черты… А вот литография Соловецкого монастыря, да такая подробная, что можно часами сидеть и разглядывать храмы, заливы, постройки и хозяйственные дворы, а на облаках поверх обители сидят преп. Зосима и Савватий, основатели монастыря, наверное, наблюдают, что да как там без них управляется…
Бабу Таисия — это дедушкина сестра, она одинока и замужем не была, а потому я любил пропадать у нее целыми днями. Глубокую любовь к Богу и Церкви ей привили родители, и она с радостью делилась богатым миром своей опытом проверенной веры. Вечерами я слушаю рассказы о жизни святых, вот и сейчас прошу: — Бабу?, а расскажи об этом святом, что птичку на плече держит.
— Это не просто птичка, — отвечает бабу?, — это сокол, а держит его великомученик Трифон, ну да не сейчас, давай чайку попьем.
И вот на столе уже пыхтит самовар.
— А ладанку? Дай ладанку!
— Ну возьми, да не переборщи опять, а то снова придется избу проветривать.
Ладан клали в трубу самовара, когда он стоял уже на столе. Как рассказывала бабу, так всегда на праздники делали, тятя ладан доставал, сам его щипчиками откалывал, да клал немного для аромату. Теперь это мне доверяют. Беру старинные с зазубринами щипцы и, пока бабушка ходит на кухню за пирогами, откалываю хороший кусочек и быстренько бросаю в трубу — избу тут же густо заволакивает сладким туманом с запахом ванили и чего-то таинственного. Запахло Церковью. Из дымки тумана, с образов, выглядывают лики святых, — «Это вам», — приговариваю я и еще подкидываю кусочек ладана. Из сладкого облака, размахивая дым полотенцем и чихая, появляется бабушка:
— Ах, сорванец, ведь говорила: много не клади. Ну да ладно, знаю, что ладан любишь.
На печи, вторя бабушке, чихает кошка. А я забираюсь к столу, в уютный угол под иконы.
На столе появляются пироги и мед. Начинается чаепитие…
Сивиха
— …Таисья! огурцы-то снимала? — В сенях послышался знакомый голос. -Ой, да гости у тебя….вишь, на Исидора тепло было, а я и говорила, — вот, огурцы — то и пошли….Во как, и ты здесь уже? Надолго в Пирогово?
— Да на все лето, -отвечаю, уминая пироги с медом.. Это Александра — подруга бабу. Не знаю, как в других деревнях, но в Пирогово у всех, помимо имени, были еще и прозвища: Дудниха, Петушиха, Прокуниха (последнее прозвище было у моей бабушки по матери, а все потому, что прадеда звали Прокл, в просторечии Прокуня). А вот Александру почему-то звали Сивиха. Она из зажиточных старообрядцев, большое хозяйство у них было; в советское время семья была раскулачена, многие были репрессированы и расстреляны, с тех пор Александра люто ненавидела эту власть и даже отказалась брать советский паспорт, хотя в колхозе всю жизнь трудилась и пенсию заработала, но деньги не брала,
— Я этот пачпорт даже и в руки брать не буду, не хочу мараться,- говорила.
Электричества в доме тоже не было, ведь за свет платить надо. Печь топила да самовар ставила. Так и жила своим хозяйством: кошка, огород да курицы. А помогали ей сестры двоюродные, они в городах жили. Бабу? Таисия да моя бабушка, та, что Прокуниха, как напекут пирогов, так Александре несут, хотя она и сама бывало пироги пекла.
— Ну, садись за стол, чайку попей.
— Да напилась уже дома, спасибо.
А я уже знаю местные традиции: за стол, как приглашают, сразу не садятся, усаживаются на край лавки или на стул и чинно ведут разговор.
— Давеча в лес ходила, — продолжает, переходя от огуречной темы,- черника есть, да зеленая еще. Всяко к Петрову дню поспеет…
— Да ты садись за стол, — предлагает бабушка Таисия,- вот пироги сегодня пекла, знаю, что гости приедут.
— А у нас тятя приговаривал, — как бы не слыша приглашение, обращаясь ко мне с улыбкой, — не садись, говорил, под образа, там попы только сидят…ну, да сиди, раз нравится…
Сивиха, как называли всегда Александру в деревне, была подругой бабушки Таисии, она мало с кем общалась, а с бабушкой вместе в храм ходили, далеко приходилось ездить, ближайшая церковь Ильи Пророка километров за пятьдесят была. Был и свой храм, да его закрыли еще в тридцатые годы. Священника расстреляли. В начале восьмидесятых храм пытались открыть, такое общее настроение на селе было, создали двадцатку, Сивиха как раз должна была старостой стать. Написали письмо к уполномоченному да в совет по делам религий в Москву, что так, мол, и так, народ просит, и подписи собрали около двухсот дворов. Но вот тут-то и началось… Говорят, из области приезжали, собрание в колхозе было, спрашивали:
— Вы что колхоз позорите? Все наши социалистические завоевания под откос пустить хотите, церковь захотели? Не будет попов у нас в колхозе!
А потом, рассказывали, персонально по списку ходили к тем, кто подписи за храм ставил, спрашивали: вам что, плохо в социалистическом государстве живется? Многие тогда отказались.
— А ты, Таисия, на Петров день к Пророку Илье собираешься? Я вот думаю на Серафимов день ишшо поехать, да и на Илью остаться.
— Как не поехать, поеду, — говорит бабушка Таисия, — да ты садись чайку попей..
Сивиха человек не простой, ей уже за шестьдесят давно, а осанистая, взгляд гордый, на всех свысока смотрела, как барыня, не от того, что себя лучше других считала, нет, это у нее от родителей, видимо, да еще судьба выстраданная, а за веру пострадать готова была. На деревне те, что помоложе были, церковницей ее называли. Но не со злобы, даже пьяницы и матюжники деревенские — и те людей веры уважали. Как напьются самогону, бывало, так и идут к Таисье да к Сивихе душу изливать…
— Ты, Таисья, — говорят,- молишься да в Церкву ходишь, а мы тоже знаем, что Бог есть! Черти — они есть, мы их каждый день видим, а раз они есть, значит, и Бог есть! Ты в Церкву-то пойдешь, — говорят, — так на, на свечку, Николе поставь, — и рубли мятые совали.
— Да садись к столу.
— Ну да ладно, попью чайку с вами…
На столе стоит самовар, как бабушка сказывала, еще прежний. Разливать чай и сидеть напротив краника почетным считалось, там всегда хозяйка сидела. Вот и сейчас на разливе бабушка Таисия, а мне это дело не доверяли — мал еще, говорили.
— Инея-то зимой на деревьях много было, — продолжает Александра, погружая ложку в миску с медом, — значит, лето медоносное будет, вон, у Прокунихи рой вылетел, давеча шла, так видела, как обирают. Дай Бог медку-то.
Петров день
С утра льет дождь, но настроение радостное; меня берут к Илье Пророку. Путь дальний, а потому собирают основательно, в сумку кладут пироги и огурцы, вареные яйца — на розговенье, ведь в Петров день пост заканчивается, в бутыль наливают домашний квас. Выходим рано и идем деревней, по пути надо зайти за Александрой да за Николкой. Николке тоже уже за шестьдесят — это слепой, который жил в небольшой келейке, рядом с домом Сивихи. Один жил, да кошка. С хозяйством сам обряжался: и стирал, и готовил, и дом в чистоте содержал. В избе просто было, лавка вдоль стены, стол да комод. На полу домотканые потертые дорожки. На стене часы-ходики, такие у многих были, их почему-то чикотушками называли. По углам иконы ростовые, из разрушенной церкви — в окладах, под стеклом. С потолка свисают лампады. Одна, та, что перед иконой Троицы висит, медная с позолотой, вся в камнях, и, когда фитилек горит, яркие огоньки мерцают, играя по всей комнате. Другая массивная, посеребренная, перед иконой Богоматери, там на три стороны херувимы смотрят. У других икон лампады попроще.
Убеленный сединой Николай с белыми, как бы выцветшими большими зрачками уже ждал нас на крыльце своего дома. В руке палка и сумка.
-Ну, пойдем неходко, — сказала Таисия. Николка тут же встал, положив руку на плечо бабушки, — так и шел всю дорогу, держась за плечо. Вереница богомольцев с перекинутыми за спину котомками направилась в путь.
-Пра-вило ве-ры и о-браз кро-то-сти.., — это дребезжащим старческим голосом запел Николка, вслед за ним и все подхватили тропарь святителю Николаю Чудотворцу, покровителю всех путешествующих. До дороги идти километр, автобусы ходят плохо, а тут еще бездорожье полное. Однако стояли недолго, молоковоз подобрал, аккурат до Кадникова ехал — это небольшой городок, в трех километрах от которого в поле на возвышенности и стоит пятикупольный храм святого пророка Илии…Воздух и весь Божий мир будто наполнен напряженным предвкушением….Начинается праздник.
У Илии Пророка
Про пророка Илию мне рассказывала бабушка Таисия, что жил он в бытность нечестивого царя Ахава и что Бог возложил на него миссию быть Его пророком и обличать неправду. От бабу? я знал, что не просто ему приходилось — от царя скрывался на горе и там питался финиками, а ворон приносил ему в клюве пищу.
Финики я очень любил, а потому потихоньку Илии-пророку завидовал. Мне было известно, что на колеснице огненной он был взят на небо и не увидел смерти, как прочие люди. А еще я знал, что если гремит гром, а на небе грозовые облака, то это Илия-пророк на колеснице катается. Грозы я боялся, а потому пророка древности очень уважал.
Пятиглавый храм стоит на возвышенности. По тропинке, протоптанной среди ячменного поля, подходим к ограде и по высоким ступеням поднимаемся в храм. В храме уже суетливо, люди толпятся у свечного ящика, подают записки и покупают свечи.
— Таисья, никак молитвенников привела? — Это Павла, о ней я узнал позже, — она и храм сторожила, и уборкой занималась, и по хозяйству церковному обряжалась.
— Почему она ходит как утка, вперевалочку? – шепотом спрашиваю у бабу.
— Ноги у нее больные, да и не молодая уже, — так же шепотком отвечает бабушка.
— Ты, Таисья, поди, помоги за ящиком, а то народу ноне много.
Бабушка иногда помогала за свечным ящиком, принимала записки и выдавала свечи, а я эти свечи разлеплял, сидя на широком сундуке, так как некоторые из них были слипшиеся между собой.
Запахло кадилом, послышался голос священника, и в передней части храма зазвучало пение — началось богослужение.
Из массивных посеребренных окладов икон таинственно выглядывали лики святых. Вот святитель Николай, он бывает летний и зимний, его изображений много в любом храме, и на некоторых иконах он изображен без головного убора — бабушки хорошо знают различия: зимний — это тот, который в шапке.
Много свечей горит на подсвечнике у святых Флора и Лавра, им в деревнях о скотине молятся — это я тоже знал.
Слепой Николай стоял рядом с певчими и немного подпевал, ему доверяли читать Псалтирь — он знал его наизусть.
Богослужение утомительно долгое, но меня всегда выручал сундук — любимое место в храме, на нем можно было сидеть.
-Давай вставай, Евангелие читать будут, а потом на помазание, — слышу поучительный голос бабушки.
Этот момент богослужения я любил: в храме начинается хождение, все идут к центральной иконе и принимают помазание от священника.
-А, Женька пришел! Ну, давай завтра в алтарь приходи, будешь кадило держать, — говорит мне отец Георгий, густо помазывая лоб душистым маслом. Целую руку, киваю головой в знак согласия и иду к своему сундуку, где, свесив ноги, жду окончания вечернего богослужения.
Ну вот, наконец, тушат свечи и лампады, но церковное пение крылошан (так называли певцов) еще долго будет звучать в ушах. И уже гораздо позднее, став взрослым, заслышав пение академических хоров и участвуя в торжественных соборных богослужениях, с теплотой сердечной вспоминаю это бесконечное, умилительно надрывное, дребезжащими голосами, церковное старушачье пение, и нет ничего дороже этих напевов…
Темнело. Подошла Павла:
— Ну вот, Петр и Павел час убавил, — и как бы продолжая: — Ты Женьку-то к нам в дом веди: я давеча клопов травила, так у меня и выспитесь хорошенько, тихо у меня.
Рядом с храмом стояли церковные дома, в которых можно было разместиться приехавшим богомольцам. В одном из их них нам был приготовлен ночлег. Клопов действительно не было, а старый матрац со сбитой в комья ватой показался мне мягче пуховой перины.
Праздник
Раннее утро оказалось ясным, предвещая теплый солнечный день. Вот к нам в избу зашел Николка, его за руку привели к нашему дому.
-Женька, со мной на колокольню пойдешь? Ну, то-то,- говорит Николай, не дожидаясь ответа, глядя своими выцветшими глазами поверх моей головы.
Николай был еще и звонарем, он шустро, на ощупь подымался по скрипучим ступеням высокой колокольни.
Соскочив с кровати и наскоро умывшись, бегу вслед Николаю. С высокой колокольни открывается вид на деревни и засеянные поля, вереница богомольцев с перекинутыми через плечо сумками движется в сторону храма. Размашисто перекрестившись, Николай нащупывает веревку большого колокола: — Ну, Господи, благослови, — послышался первый удар.
— Надобно два удара сделать, — поясняет Николай, — и второй, когда звук первого исчезнет, это в знак двух пришествий Христовых, а уж потом благовест начинаем — тридцать три удара, по числу лет Христовых, а уж потом и перезвон, и трезвон можно.
Вот эдак и звоним, — завершил свое пояснение Николай, начиная приплясывать в такт церковному звону.
В алтаре меня ждало кадило, оно уже было растоплено, и я должен был за ним присматривать, а когда того требовал богослужебный устав – подать его в руку священника, это мне подсказывал алтарник Анатолий.
-Ты, — говорит, — как кадило-то подаешь, так сразу руку целуй у священника, так оно требуется по благочестию, и когда забираешь кадило, тоже целуй. Это, оно, — подняв палец вверх, видимо, для пущей важности, — лопату можно так в руку сунуть, а то вещь церковная.
Началась Литургия — самое красивое богослужение, и поют как-то по-особенному, торжественно.
Отец Георгий в парчовом облачении стоит у престола, сень над которым поддерживают четыре в полный рост херувима. После очередного возгласа вынимает спрятанную где-то расческу и подходит к зеркалу, для того чтобы расчесать свою пушистую бороду, открывает царские врата и торжественно выносит Евангелие. Держу уши востро, мало ли, скажут кадило подать.
Ну, вот и долгожданное “Отче наш”, бабушка говорила, что как споют, так скоро и Причастие будет. Выхожу из алтаря, храм залит солнечным светом, все блестит и переливается в золотистых лучах.
— Руки-то не забудь на груди сложить, — подсказывает мне Анатолий.
— Причащается раб Божий отрок Евгений, — произносит священник, и серебряная лжица со святым Причастием касается языка.
На душе светло и радостно. Вновь подходит Анатолий:
— Ну, с принятием, — и в кармане моей кофточки оказывается шоколадка. Закончилась служба, и все чинно подходят ко кресту.
В церковном доме нас ждал пыхтящий самовар. А мне уже хочется домой, воображение рисует парное молоко с горячими пирогами и мясной наваристый суп в чугунке, который бабушка вынимает ухватом из печи. Закончился Петров пост.
Манефа
На Рождественские праздники меня вновь взяли к Илье Пророку. На перекладных добрались до города Кадников, далее пешком.
Дорога закончилась, и мы узкой, но накрепко протоптанной тропинкой направляемся к храму. День выдался морозный и солнечный. От искрящегося снега слепит глаза. Откуда-то, из подсознания, всплывают таинственные слова (и где это я их слышал?): «И одежды Его сделались белые, как снег, как на земле никакой белильщик не может выбелить».
Ну да, это же из Евангелия. Там, где рассказывается о Преображении Господнем. Помню, это мне читала бабушка. Таинственный свет осиял тогда учеников Христовых. Вот такой же свет, наверное, и теперь слепит меня. Из глаз выкатываются крупные слезинки и тут же превращаются в ледяные хрусталики.
До вечернего богослужения еще есть время, и нас зовут на чай в большой церковный дом. Через низкие, но широкие, обитые войлоком двери заходим в жарко натопленную избу.
— Ну, вот и Таисья приехала, да не одна, — слышим мы уже знакомый нам голос. Этих женщин я видел и в прошлый раз.
В избе уже многолюдно. На столе пыхтит огромный двухведерный самовар, в тарелках лежат постные пироги с капустой и брусникой. В мисках — соленые огурцы и квашеная капуста, в чугунке — свежесваренная картошка в мундире. Нам уступают место за столом.
— Давай, Таисья,- говорят, — сама садись, да и хлопца с дороги корми.
Читаем молитву и садимся за стол. Неспешно течет беседа, ведь многие из далеких деревень, не часто видятся, и надо успеть рассказать, как да чего. Вот кто-то помер, а у кого-то правнук родился. Вот где-то председателя колхоза сменили, наворовался, говорят, а у кого-то зять пьет. За вкусными пирогами узнаю, что где-то силоса не хватит до свежей травы, и что надои зимой поупали, и что в какую-то деревню волки по ночам приходят…
— Видать, к долгой да холодной зиме, — слышу голос с печи. — У нас как-то напогодь волки всех собак погрызли, -продолжает голос, -так зима морозная была, снег до Паски лежал.
Отворяются двери, и с клубами морозного воздуха в избу вваливается еще одна толпа прихожан из каких-то деревень. Быстро допиваем чай и уступаем место за столом следующей группе богомольцев. Вот под руки ведут невысокую пожилую бабушку, многие привстали.
— Манефу привели, — слышу шепот рядом стоящих. – Плоха, плоха стала…
Манефу учтиво проводят в соседнюю комнату и помогают снять стеганую фуфайку.
– Давай, давай чайку с дороги…
— Ой, дайте отдышаться, — слышу как будто детский, но старческий голос Манефы, — погодите, еле дышу.
Манефу усадили на стул, и она, будто рыба, вынутая из воды, долго и тяжело хватала ртом воздух, держась одной рукой за грудь. Наконец ее проводили за стол. Сажусь на широкую лавку поближе к окну и внимательно рассматриваю усаживающихся за трапезу людей.
Вновь звучит «Отче наш». Смотрю на Манефу: она, ухватившись двумя руками за стол, пытается удержать в молитве свое согбенное тело. Ее внимательный взгляд устремлен к образу Спасителя, перед которым теплится лампада.
– Истовая молитвенница, — слышу голос бабушки Таисии, подсевшей рядом со мной. Вот что поведала мне бабушка про Манефу.
В 30-е безбожные годы прошлого уже теперь 20-го столетия Манефа, как и подобало в те времена, трудилась в колхозе. Но одновременно несла послушание ночного сторожа в храме, на ней был и церковный склад, где хранились свечи и прочая утварь. Местная Советская власть уже неоднократно предпринимала попытки закрыть храм, но всякий раз из-за многолюдности это не удавалось.
Какой-то осенней ночью к храму подъехал грузовик и из него вывалились пьяные комиссары. Что-то отмечали, а вино закончилось — кто-то и предложил, мол, давай в церкву, там у них в амбарах вино всегда есть. Вот и приехали с требованием открыть храм, дабы реквизировать винные запасы, так необходимые советской власти. Их встретила Манефа и наотрез отказалась отдать им ключи от храма. Никакие угрозы и махание револьвером не смогли сломить женщину. Попытки взломать кованые церковные двери и решетки тоже не увенчались успехом. Матерные слова и гарь забуксовавшего в грязи грузовика еще долго стояли в воздухе, уехали ни с чем, но обещали вернуться.
И вернулись. На следующую ночь, особым постановлением какого-то там местного губчека, за контрреволюционную деятельность Манефа была арестована. Этот же грузовик увез крестящуюся на храм женщину.
Вернулась Манефа с лесоповалов уже после войны, согбенная и больная. Облупившейся штукатуркой, разбитыми колоколами и выбитыми стеклами встретил ее пятиглавый храм Ильи Пророка. Храм не разрушили и не осквернили, может, не успели до войны, а может, Илья Пророк уберег. Может, гнева Божия убоялись, ведь слышали, как в соседней волости, в Егорьевском, на Пасху при большом стечении народа на церковную крышу залез гармонист да и давай плясать, напевая бранные частушки, однако поскользнулся да и разбился, упав с высокой церковной крыши. А может, молитвы Манефы с лесоповала не дали закрыть храм.
А вот и благовест. Это Николка-слепой ко всенощной звонит. По хрустящему снегу идем в храм, уже стемнело, и на небе засияли звезды. Может быть, среди них есть и та, что светила мудрецам, указывая путь к яслям родившегося на земле Спасителя.
После некоторого перерыва со сном на колючих, набитых сеном матрацах нас ждала еще и ночная Литургия. Бабушка Таисия помогала в церковной лавке, принимала записки и раздавала свечи.
На вот, помогай, свечи разбери, — бабушка протягивает мне большую пачку слипшихся друг с другом свечей с сороковым номером на упаковке.
— Бабу?, а где этот ключ от церкви, что Манефа не отдала? -спрашиваю я у бабушки, разматывая упаковку со свечами.
– Да вот он — на, посмотри.
Из отдельного ящика бережно вынимаю огромный кованый ключ с витиеватой ковкой, отполированной руками и замочной скважиной. Так вот он какой, ключ, который так и не смогли заполучить безбожные большевики.
Народу в храме много, уже за полночь. Потираю кулаками глаза, хочется спать.
– Погоди, вот пропоют «Рождество Твое Христе Боже наш», да и поди на свой сундук, поспи, — шепчет мне на ухо бабушка, — к Отче наш разбужу.
Под радостное старушечье многоголосье батюшка открывает царские врата, запели Рождество Твое…ну вот, значит, родился Христос, значит, все будет хорошо — и я потихоньку, протискиваясь сквозь людей, набившихся в храм, направляюсь к своему сундуку. Нигде и никогда мне не спалось так сладко, как в эту Рождественскую ночь, на этом большом кованом церковном сундуке, устланном сверху домоткаными разноцветными половиками.
И дам тебе ключи от царства небесного…
Большой деревенский дом, где жили бабушка с дедушкой и куда меня привозили на все каникулы, делился на несколько частей. Огромная русская печь находилась в центре избы, все было устроено так, что в каждой из комнат можно было погреться у побеленных известью теплых печных стен. По дороге на кухню можно было иногда запнуться о кольцо большой крышки, расположенной в полу и ведущей в таинственный подпол. В зимнее время в этом подполе хранились картошка и овощи, там зимовали куры и пчелы в своих домиках-ульях, накрытых, видимо, для тепла, домотканым холстом. Там жила квашеная капуста, моченая брусника и засоленные на зиму рыжики и грузди. В отдельном помещении стояли большие кованые сундуки, некоторые из них были расписаны незамысловатыми, но яркими рисунками. В подпол меня брали редко, да и то если сам напрошусь.
— А что в этих сундуках лежит? — спрашиваю у бабушки, спустившись вместе с ней в подпол.
— Да золото лежит.
— Золото? — спрашиваю с удивлением. — И откуда это у вас столько золота?
— Да полно тебе, — улыбается бабушка, — приданое мое там лежит, сарафаны да рубахи, мама моя шила. Там и платье свадебное сложено, в нем еще бабушка моя венчалась. Во как.
– А покажи платье, — пристаю к бабушке.
– Да недосуг сейчас, после как-нибудь покажу, сама в этот сундук уже лет десять как не заглядывала.
Выйдя из избы, попадаешь в большой и длинный коридор, который упирался в чулан, он разделял дом на две части. В чулане, в большом ларе, хранили муку. За коридором начиналась уже неотапливаемая часть дома — сени. Там, в сенях, зимовала медогонка и всякие пчелиные принадлежности. Большую часть сеней занимал сеновал, где лежало душистое сено для прокорма коровы и овец, которых всегда держали в скотном дворе. Самая таинственная часть сеновала — амбар, он был спрятан за висящими березовыми банными вениками, заготовленными на весь год. Невысокая его дверь с кованым замысловатым замком всегда была закрыта, а кованый узорчатый огромный ключ был спрятан, возможно, от меня. В амбар ходить я боялся: туда не был проведен электрический свет, и лишь одно узкое окошечко освещало помещение, да и то лишь в дневное время. Содержимое амбара мне тоже было почти известно. Там лежал дедушкин инструмент, какие-то старинные вещи, от металлических бидонов пахло керосином, на полках стояли древние керосиновые лампы с вытянутыми, как свечи, стеклянными колпаками. В глиняных горшках, закрытых деревянной крышкой, хранился деготь. Им смазывали колеса у телеги, а еще дегтем иногда дедушка намазывал свою больную, простреленную на войне руку. Она болела, как он говорил, на погоду. В отдельном месте амбара, замотанный половиками, стоял самогонный аппарат, а на полках, в больших, плоских, накрепко закрытых пробками с двуглавыми орлами бутылях стоял самогон. Его прятали, потому что гнать самогон было нельзя. Но и без него было никак. На самогоне делали настои корня калгана и прополиса для лечения от простуд и других болезней, им делали компрессы во время хвори. Иногда, в дни каких-то праздников, его выставляли на стол. В амбаре было много и других любопытных вещей, назначение которых я не знал. В амбар я проникал только вслед за дедушкой.
Длинными зимними вечерами все устраивались поближе к печи. Бабушка с прялкой, дедушка штопал протоптанные подошвы валенок. Перед большой иконой горела лампада. На подтопке небольшой печи, которую топили в сильные морозы, стоял накрытый узорчатой салфеткой, до блеска начищенный пузатый самовар. Он напоминал мне старого генерала, вся грудь которого была в орденах. Несомненно, он гордился теми оттисками с двуглавыми орлами, которыми была украшена его грудь.
Мое любимое место тоже было у печи, на широком старинном стуле. Я листал потрепанную уже от времени толстенную книгу, сам вид которой вызывал уважение, не говоря уже о непонятном названии – «Четьи минеи» — так она называлась. Строгие лики праведников смотрели на меня с картинок, а в книге рассказывалось о их детстве, жизни и нередко страданиях за Христа. Бережно листаю страницы, выискивая знакомые для себя имена, рассматриваю картины. Вот знакомый для меня Илья Пророк, вот мученик Трифон с соколом на плече, многое из жизни этих святых мне уже известно. Вот великомученица Варвара в царской короне, а вот изображение спящей на изящной тахте великомученицы Екатерины, и одевает ей перстень на руку явившийся в сонном видении Христос. А вот апостолы Петр и Павел. Внимательно разглядываю рисунок: и чего они там держат в руках? Павел книгу одной рукой держит, а другой указывает на нее, наверное, это Евангелие. А Петр? Вот это да! Он держит ключ от нашего амбара, точно такой же, большой кованый ключ с замысловатым рисунком. Ну и дела! А я знаю, где он спрятан, этот ключ — он висит за косяком, на большом кованом гвозде, а поверх фуфайка накинута. Он почти такой же, как и ключ от Церкви Ильи Пророка, только ржавый совсем.
-Бабушка, — задаю я вопрос, — а чего это апостол Петр держит ключ от амбара?
-Да не от амбара это, — улыбается бабушка, — это ключ от Царства Небесного, ему этот ключ вручен, он его и хранит. Да ты почитай сам, грамоту разумеешь.
Листаю страницы (ух и много тут понаписано!) — и где это место, где Христос вручает ему ключи от Своего Царства? Но ничего не поделать, начинаю читать. По пути узнаю много интересного и неизвестного для себя: что был он рыбаком, а потом пошел вслед Христа, что ходил по водам в страшную бурю, но убоялся и стал тонуть, что, наверное, и произошло бы, если не Христос, подавший ему Свою крепкую руку. Он все видел и слышал, потому что всегда шел вслед Христа. А вот и это место, где Спаситель спрашивает учеников: «За кого Меня почитают люди?» И тогда после недолгих догадок, Петр сказал: «Ты Христос — Сын Бога Живаго». А вот и ответ Христа: «Я говорю тебе: ты Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного». Уже позднее я узнал о том, что ключ этот в руках апостола Петра не простой, а имя ему — вера, само исповедание Христа: «Ты Христос — Сын Бога Живаго!» Вот этим-то ключом и открывается Царство Небесное.
Так вот в чем дело! Врата ада не одолеют Церковь Христову, значит, права была Манефа, когда не отдала ключи пьяным большевикам. А даже если бы и отдала, так все равно бы устояла Церковь, раз так сказал Христос!
— Ну вот, пора на молитву да спать,- говорит бабушка.
Все встают на вечернее правило. С печи на молитву слезает и кошка Мурка, видимо, приглашение и к ней относилось. Мурка запрыгнула на освободившийся стул. После того, как осмотрела всех нас заспанными глазами, ее взгляд переключился на мерцающий огонек лампадки. Мурка была мудрой и очень Боголюбивой, не одна молитва в доме не совершалась без ее присутствия — сидела и все внимательно слушала, ну, только что лапой не крестилась. А может быть, многие молитвы уже и на память знала. Так же, посматривая на Мурку, стараюсь внимать непростым и витиеватым словам вечернего правила.
— Яже от юности и от науки злы, — читает бабушка. Да вроде бы не очень я зол от юности, думаю про себя, ну может, еще, от науки обозлюсь от какой-нибудь, а вообще много непонятного. Конечно, впоследствии понимание молитвы пришло само собой, и все встало на свои места. Мне стало ясно, что такое согрешить по молодости и по глупости, а еще от науки, не от знания как такового, а от злого научения — это когда собственного ума не хватило и чей-то дурной пример стал и твоим тоже.
Молитва закончена, и все мирно отходят ко сну. А у меня так и крутится в уме: «И дам тебе ключи от Царства Небесного…»
Быстро пролетели зимние каникулы, меня ждала школа и городская жизнь. Так пролетел год. А на следующую осень, в дни уже осенних каникул меня снова привезли в деревню. Вот пекут пироги- подорожники, это такие пироги, которые берут в дорогу. Начинаются сборы в церковь на Михайлов день, и меня тоже берут с собой. Накануне с большой грустью узнаю, что дом церковный, где ночевали в прошлый раз, сгорел, и в этом доме погибла Павла, пожилая женщина, с которой мне приходилось много раз видеться. Вот с котомкой за плечом идет Александра, не входя в дом, стучит палкой о край избы, чтобы мы быстрее спускались, ведь еще до автобуса идти. По первому хрустящему снегу отправляемся на большую дорогу, так называлась автомобильная трасса, до которой был целый километр.
— Если на Михайлов день ясная погода будет, быть холодной зиме, — приговаривает Александра.
Следующий день действительно выдался ясным, а наступившая зима была морозной.
Перед нами снова пятиглавый Илья-пророк, но нет уже привычного огромного двухэтажного церковного дома, что стоял за оградой храма. Одиноко, по периметру бывшего здания, стоят обгоревшие деревья, лишь русская печь с обглоданной трубой осталась стоять на пепелище. К нам присоединяется еще группа богомольцев, все идем к сгоревшему дому. Слышу, кто-то начинает распевно причитать: «Царство тебе небесное, Павлушка дорогая…» Так же распевно ей вторят другие женщины: «Дай тебе Бог венцы небесные да жизнь бесконечную…за любовь твою да верность ко Господу». Многие плачут, мужики поснимали шапки и тоже смахивают скупые слезинки, выкатывающиеся из глаз. Под такое причитание сложно не заплакать.
Все идут в церковную ограду, там, рядом с храмом, сразу у входа ее могила с небольшим крестом и табличкой : «Павла Тараканова 18.06.1915 — 10.09.1982» — вот годы ее жизни. Запахло кадилом . «Это Анатолий принес,- сейчас панихида будет, — говорит бабушка. — Давай постоим, Павлу-то помнишь». Пришел батюшка, началась молитва. Павла, как и некогда Манефа, жила при храме, сторожила, пекла просфоры, убирала двор и храм, принимала богомольцев, ставила самовар, помогала в свечной лавке. Она была немногословна и ходила, как утка, переваливаясь из стороны в сторону — ноги у нее болели, но везде успевала, и все ее любили. Когда загорелся церковный дом, вынести не успели ничего, слишком быстро объяло пламя старинную постройку, но Павла, вспомнив, что в доме остались ключи от храма, не сомневаясь, бросилась в охваченную огнем избу, и тут рухнула кровля…
Павлу нашли только на второй день, когда уже пожарники окончательно залили дымившиеся бревна и угли. Ее полностью обгоревшие руки крепко сжали ключи от храма, те самые ключи, что Манефа не отдала пьяным большевикам.
– И дам тебе ключи от Царства Небесного, — вспомнились мне слова Евангелия, и из глаз покатились слезинки. И подумалось тогда, что, наверное, не только апостолу Петру, но и Манефе, и Павле, и многим другим, кто любит Христа всем сердцем, дает Он ключи от Своего Царства.
Запели вечную память, и клубы душистого кадильного дыма, как, наверное, и молитвы всех стоящих, стали подыматься ввысь, растворяясь в морозном осеннем воздухе. В кармашке моей куртки вновь появилась шоколадка — это Анатолий: «Помяни Павлу, она тебя любила,- прошептал он мне, прикоснувшись к уху своими колючими и сырыми от слез усами.
Параскева Степановна
Иногда Господь сводит нас с такими людьми, теплые воспоминания о которых на многие годы способны согревать сердце, побуждают быть похожими на них, подражать их вере.
Дождливый, типичный для Петербурга осенний день. На маршрутном такси добираюсь до площади Калинина. В портфеле подрясник, епитрахиль, в нагрудном кармане, в особом мешочке, Дарохранительница — там святое Причастие, которое берет с собой священник, чтобы причащать на дому тех, кто по старости или немощи не может быть в храме. На листочке, который держу в руке, написано: улица Васенко, телефон, и имя — Параскева Степановна. Священнику, как правило, известно заранее, к кому он идет, а потому знаю уже, что меня ожидает встреча с пожилым человеком, вынесшим блокаду Ленинграда, участницей войны, которой далеко за восемьдесят. В этом районе бывать еще не приходилось. Спрашиваю у прохожих, где найти указанный на листочке дом. Язык, как известно, до Киева доведет, а уж до улицы Васенко и подавно. Вот “сталинка” и квартира на первом этаже. Дверь открывает молодой человек — Анатолий, его я уже неоднократно видел в храме. «А вот и батюшка пришел», — браво выкрикивает он, глядя в приоткрытую дверь комнаты. Раздеваюсь в прихожей, надеваю подрясник, крест, беру портфель… «Параскева Степановна ждет», — торжественно объявляет мой встречающий. Надо же, думаю, ему бы камердинером быть, еще бы сказал «ждет-с» — так объявлять поучиться нужно.
Вхожу в комнату: в углу иконы, горит лампада, под иконами, на большом старинном диване с валиками сидит пожилая женщина с благородными чертами лица и очень спокойными глубокими глазами, она сразу расположила к себе. «Я вас очень жду, спасибо, что пришли», — сказала она, приняв благословение. На столе белый рушник, свечи, чашечка с теплой водой — все приготовлено заранее. Встаем на молитву, произношу начальный возглас, вместе поем молитвы ко Святому Причащению. Тихо льется молитва, а сам я боковым зрением наблюдаю за Параскевой Степановной: она молится сосредоточенно, как будто и нет вокруг никого, только ты и Христос, и, наверное, можно так сказать, красиво.
На моей памяти так молились два человека: моя бабушка и архиепископ Михаил Мудьюгин, с которым довелось общаться несколько радостных для меня лет. Молиться с таким человеком легко, и на душе тепло. Пою Символ Веры, точнее, подпеваю, так как поет его тихим певучим, но уже старческим голосом Параскева Степановна, а про себя вспоминаю слова псалмопевца: «с преподобным преподобен будеши….»
Закончена молитва, преподано Причастие. Накрыли на стол, и началась задушевная беседа. «Родилась я еще при царе-батюшке, — разливая по чашкам чай, рассказывает, Параскева Степановна, — помню все перемены, которые происходили в нашей стране».
Как оказалось, с детских лет полюбила она храм Божий, с которым не расставалась до конца своей жизни, хорошо знала богослужение. Еще девушкой приехала в Ленинград. Сумела получить высшее образование, особо не скрывая своей веры, что в те годы было не просто. Много страданий повидала. Видела беду, которая приходила в семьи, оставшиеся без кормильца — ”врага народа”, много друзей потеряла в сталинских лагерях. В годы войны трудилась одним из ведущих специалистов на оборонном предприятии блокадного Ленинграда, являясь при этом постоянной прихожанкой Никольского собора, не закрывавшегося в годы войны и блокады. Доводилось ей общаться с митрополитом Алексием (Симанским), будущим патриархом, удивительными пастырями церкви, сумевшими высоко нести свое пастырское служение в военные годы. Людьми, которые, несмотря на многие испытания, хранили православие, ни совести своей не продали, ни веры. «Вот так, — говорит, — за знакомство с ними всегда благодарю Господа. Теперь старая стала, на улицу не выхожу, но Бог не обидел, силы дал, за долгую жизнь свою, везде ощущала я Его крепкую руку. Теперь неплохо живу, вот холодильник привезли мне как блокаднице, от губернатора, говорят. Приятно…»
Около двух лет общались мы с Параскевой Степановной, она старалась причащаться во все посты, и каждая встреча и беседа с этой женщиной были для меня была праздниками. Пережитое, и старческие немощи — все покрывала собой сила и красота ее души.
Помню нашу предпоследнюю встречу. Она уже занемогла, все реже вставала с постели. Как всегда, вместе молились. А после традиционного чая, наклонившись ко мне, прошептала: «В сентябре мне уже девяносто. Хватит, пожила. У меня к Вам просьба, причастите меня на девяностолетие».
Вот и сентябрь. Дождливым днем спешу к Параскеве Степановне, сегодня ей девяносто. В портфеле епитрахиль, за пазухой Причастие, на память приходит поговорка: “как у Христа за пазухой”, а тут у меня — “Христос за пазухой”, в руках белые хризантемы. Обхожу большие лужи, уже опаздываю к назначенному времени. Знакомая дверь, звонок. Слышу опять: Параскева Степановна ждет! «Плоха, плоха стала»,- шепчет на ухо Анатолий. Вновь знакомое «спасибо что пришли — я уже не встану, видно, пришел мой час». Желая ободрить, вручаю цветы:
— А на девяностопятилетие машину цветов привезу! — говорю.
— Да полноте Вам, — однако, вижу: глаза прищурила — приятно!
Вновь молитвы, беседа, Причастие.
Шепчет на ухо:
— Поминайте меня в своих молитвах.
— Да что Вы, Параскева Степановна, — говорю, — я молюсь о Вас.
— Да нет, Вы поминайте меня! Рабу Божию Параскеву.
— Да поживете еще!
— Нет, батюшка, — уверенным голосом произнесла она, — уже нет. Я ждала этого дня, допустил Господь, теперь я спокойна.
Вновь пьем чай, беседуем. Собираюсь уходить.
— Батюшка, — еле слышным голосом, — помолитесь обо мне.
— Хорошо, — говорю, — я об Вас, а Вы обо мне. Договорились!
А через несколько дней телефонный звонок, знакомый голос — это Анатолий: «Батюшка, поминайте рабу Божию Параскеву!» Осеняю себя крестным знамением: помяни, Господи, душу усопшия рабы Твоея! Все ведь решила заранее, знала, и с Господом договорилась. Вот уж действительно послушает праведников Господь, все ведь так сделал, как она хотела.
На сороковой день едем на кладбище. Выпал первый снег, слепит глаза. Идем в молчании, думаю про себя: наверное, этот белый снег, эти ризы белые, как говорится в книге Откровения, что вручены были за верность Христу, выпал сегодня ради нее.