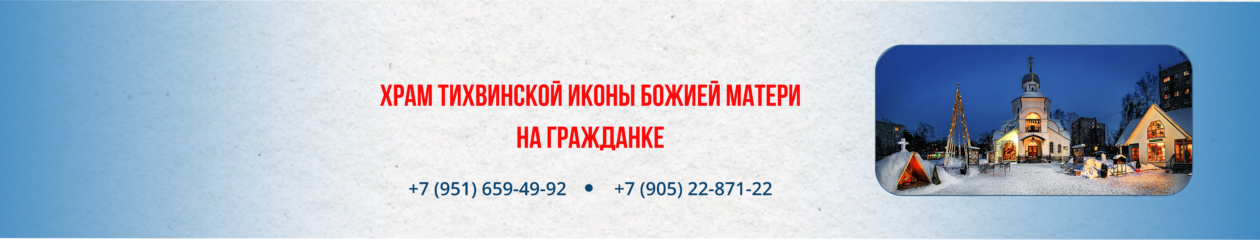Небольшой рассказ о русской Вологодской деревне с ее неповторимым колоритом и диалектом местности, которая называлась Корбанга. По названию одноименной реки, где протекало моё детство. Это период конца 70-х, начала 80-х годов. Деревни постепенно исчезают, и носителей диалекта Вологодских деревень становится всё меньше. Потому так ценнее то время, оставшееся в памяти.
— Проходите, девки, в избу, да не сымайте обутку-то, грязный полот-от, не мыла ишшо…
Немного крикливым, певучим голосом, заслышав скрип половиц у двери, и вглядываясь в полумрак сеней, зовёт нас бабка Антонина. Девки — это мы двое, бабушка и я, ее внук, который как хвостик всегда увязывался за бабушкой.
— Ой, ты, Таисия!
— Да, со внуком,
— А я думала девки. Ну да ладно.
При входе в избу, у заборки, крестимся на образа, с горящими перед ними лампадами. Заборка — это крашеная дощатая стена, иногда оклеенная обоями, отделявшая прихожую от самой избы.
Антонина, она же бабка Тоня, была в возрасте, грузная женщина. По избе передвигалась плохо. Из-за больных ног очень редко выходила на улицу. Ёе всегда можно было видеть сидящей у окна с расшитыми занавесками.
Садимся на лавку, поближе к столу, на котором стоял самовар, немного просевший на одну ногу. Он был похож на старого генерала: на груди, поверх краника, будто ордена и медали красовалось множество оттисков. В сахарнице — мелко колотый кусковой сахар и щипчики. По зазубринам было видно, как много твердого сахара повидали они за свою жизнь. В другой сахарнице — конфеты «дунькина радость», да постный цветной сахар. На тарелке бублики с маком, да пироги.
Пироги бабке Тоне носили всей деревней, знали, что сама не печёт. А человек на деревне она была нужный. Вот и мы пришли с пирогами.
— ТретьевОдни Шурка была на поскОтине, дак еле ноги унесла, в чапарыжнике-то кто-то сидит, да пыхтит.
Думали в доме уже есть кто, и Антонина кому-то рассказывает, а оказалось — нам.
— Дак исподню порвала, эдак бежала. Ричку перепрыгнула, а в чапарыжнике-то мычит.
— Тьфу её, корова видать. Но обратно ворачиваться не стала, дак без грибов и воротилась. Один обабок токмо и принесла.
У бабки Тони голос певучий, говорила она немного на повышенных тонах, с элементом учительной интонации. Но это особенность многих в деревнях русского севера.
—Давече с Манькой чай пили, — Антонина перескакивает уже на другой рассказ, —вечеряло, скотину уж во дворы застали, и пастух домой ушёл. А идёт Сашка, да орёт пьяный по всей деревне, мол все коровы пришли кроме моёй. А ты поди на поскотину, кричу ему из окна, там в чапарыжнике корова твоя. Дак пошёл да привёл.
Сижу на широкой лавке, рассматриваю пестрые домотканые дорожки, они расстелены на полу. У бабушки Таисии, как и у другой бабушки Марии, тоже есть такие половики, есть вседневные, то есть на каждый день, есть праздничные, и великопостные. А на подволоке, так называлось пространство между потолком и крышей, лежал деревянный ткацкий станок. На этом подволоке много ещё чего лежало — старые чугуны с протёртым от времени днищем, старые самовары, какой-то непонятный для меня инвентарь.
— Парнишко-то, — бабка Тоня кивает в мою сторону головой, — поди на всё лето привезли. Прозвучало это то ли вопросом, то ли утверждением.
Из пыхтящего самовара в чашки с золотым ободком нам наливают чай.
— Чаёт индейский, давеча по три пачки давали…
Антонина рассказывает про то, как кто-то ходил в магазин, а он находился в соседней деревне и принес для нее дефицитный по тем временам индийский чай в пачках, с нарисованными на них слонами. Начались разговоры про погоду да про огороды. Про то, что мало дождя, и что лук на грядках нонче будет мелким.
Из-за заборки показалась пятнистая кошачья мордочка, которая любопытно нас рассматривала.
— Морозка, а ну поди сюды, пирога дам, — опять же немного крикливым, поющим голосом зовёт ее Антонина.
— По первым заморозкам родилась, дак Морозкой и назвали.
— Глико, какая баскАя.

Кошка действительно была пятнистая и очень красивая.
Морозка, оценив ситуацию, двинулась навстречу, но не успела подойти к бабке Тоне, как увесистый ломоть жирного пирога плюхнулся на пол, прямо перед ее кошачьим носом. Аппетитно прожевав пирог, кошка внимательно уставилась на хозяйку, видимо желая ещё получить кусочек.
— Хватит, в другорядь дам, — кричит Антонина.
Ну, в другорядь, так в другорядь. Морозка видимо поняла, что ей сказали, и развернувшись спокойно пошла обратно.
Вновь скрипят половицы, кто-то идёт.
— Ну-ко те, глянь-ко, Евстолья идёт.
— А батог-от выше её.
Евстолья и правда пришла с батогом. Батог — это палка, на которую она опиралась. Войдя в избу, батог поставила в уголочек, перекрестилась, глядя на иконы.
— Ты девка, давай-ко проходи сюда. — Антонина зовёт ее за стол.
Нужно сказать, что девке Евстолье, было лет хорошо за семьдесят. А девками бабушки звали всех своих подружек, оно и немудрено, ведь детство на деревне провели вместе и босиком на реку бегали.
— До обеда письмоноску ждала, — поправляя фатку на голове, рассказывает Евстолья, — да поди не придет, а должна была нонче пензию принести.
Письмоноска — это почтальон, женщина средних лет из соседней деревни. С толстой сумкой на плече она обходила целую гряду деревень, разносила газеты и письма, а ещё в урочные дни, разносила пенсию. Даже в непогоду идти нужно было полями да перелесками, хорошо если какой мужичек на лошади с подводой по пути едет или тракторист, а так всё пешком. Ждали ее с нетерпением, нередко угощали чаем да пирогами.
— А и ладно, что пришла, давай чай-от пей, — говорит Антонина, и певучим голосом продолжает:
— Вон Сашка Кочетов давеча проезжал через Великодворье на лошаде, да и подвозил её. Дак денег говорит, только на три деревни дали, до вашего Пирогова не дойду, говорит.
— Вот и поди ты …
Последнее было сказано не для того, чтоб попросить кого-то выйти, а так, ради красного словца.
Вновь неспешно продолжается беседа. Обсудили Иванов день и первый медонос.
— На-ко, лизни медку-то, — бабка Тоня подвигает ко мне глиняную миску с медом, в которой плавали две пчелы.
— Давеча Анна принесла, первый мёд-от.
Старательно облизываю алюминиевую, почти съеденную ложку. Мёд тянется, густой и ароматный…
Изба у бабки Тони очень старая, но крепкая. Посреди избы большая русская печь. В деревнях на Пасху печи красили какими-то белилами и это создавало особое настроение праздника. Вот и у Антонины печь была покрашена, но не нынче, а года три тому назад. На стенах обои и часики ходунки с болтающимся маятником и гирями на цепях, на подоконниках, в горшках и старых чугунках, цветет герань, ситцевые занавески с подвесами. Все это создавало неповторимую атмосферу деревенской избы.
Жаркое лето, а потому несколько окон открыты настежь. В окна вставлены деревянные рамы с натянутой марлей. Она пропускает лёгкий теплый ветерок.
— А я ведь, девки, вострошарая, — посмеиваясь, рассказывает нам бабка Тоня. Мне уже хорошо знакомы эти вологодские говоры.
Вострошарая — это та, которая всё видит и знает.
— Вчерась, — продолжает нам рассказывать, — сестреничи Кострекины внука потеряли, куды убрёл не знают, а к вечеру уже. Да и не едал.
— Идут ко мне, да шаньги принесли. На говорят, напекли.
— Не цыганы ли увели, не видала?
— Да полноте баять-то неладное, у рички Димка ваш. Там костер жгут, робят много и наши деревенские и ишшо всякие.
— Дак, чайку попили у меня, и пошли за ним, смотрю идут, ведут сорванца.
Изба у бабки Тони была почти в середине деревни, и окнами в аккурат на улицу, поэтому никто не мог ни пройти, ни проехать незамеченным.
Вновь слышим скрип половиц, тяжёлые мужские шаги и голос.
— Антонина! — это был Василий, он же Васька.
По деревням было принято, вне зависимости от возраста называть уменьшительно-фамильярно: Василий- Васька, Леонид- Лёнька, Мария- Марья или Манька, Елена — Ленка, Татьяна — Танька, Тамара- Тамарка. Это в лучшем случае. Нередко в ход шли какие-то присловия, не имевшие отношения ни к имени, ни к фамилии. Например, Дудниха, Петушиха, Прониха, Прокуниха, Кочуриха, Кочеряжиха…
Василий был с похмелья, вошёл босиком. Перед тем как войти в избу,на мосту, снял сапоги и портянки. Мостом называли холодный коридор, перед входом в избу.
— Васька, — опять же немного крикливым голосом обращается к нему Антонина, — да ты пропашшый, тверёзвым то, поди и не видала тебя…
— Пошто пьян-то?
— Дак ведь, божатка, Иванов день, — как бы немного виновато начал оправдываться Василий.
Бабка Тоня этому Ваське крестной матерью была.
Храмы были закрыты, а те, что были, слишком далеко находились. А из колхоза, где каждый день нужно или на поле быть или на ферме, да если ещё при своей скотине, так не то, что в храм, в город не выехать. Многие до двадцати лет дожили, и в городах не бывали. Потому тайком, чтоб огласки не было, на деревню батюшку вызывали. Особо доверенные люди ходили по избам, да не ко всем, а к тем, кто умеют язык за зубами держать и говорили, тогда-то мол поп приедет. В какой-нибудь избе таз ставили и детей крестили.

Так вот, Антонина этого Ваську из таза после крестин воспринимала, а потому божаткой и была. Божаткой крестную называли.
— До Иванова-то дни, — смеётся Антонина, —неделя ишшо…
В те годы по деревням самогон гнали. Избу и двор изнутри запирали, а ко входной двери или веник или полено ставили, мол дома никого нет.
Самогон по деревням, как внутренняя валюта был. Забор починить или усадьбу картофельную окучить, так самогоном и расплачивались. Но самогоноварение считалось преступлением, за это наказывали. Однако, несмотря на это, самогон гнали все. Из зерна, хлеба, сахара. Все это выбраживало в потаённых местах дома, у кого в хлеву, у кого в подполе. А когда варить начинали, по всей избе, да и рядом с домом витал характерный запах.
Нередко по деревням бывали облавы. Вот и Василий, видать, пробу с первака снимал.
— Ты Васькя, апарат-от сюды неси.
— Я ведь богомольная, — Антонина посмотрела на образа с горящими перед ними лампадами, как бы проверив, не коптят ли, — сюды не придут.
— А ты ко мне на сеновал отнеси-тко, да сеном привали.
— Вон, на Заднем нонеча с милицией приезжали, а по всей деревне гонят, дак, у троих и забрали.
Вот и поди ты …
Позднее выяснилось, что какие-то женщины, из деревни Заднее, вуповод, то-есть недавно, мимо Антонининых окон проходили, да про всё и рассказали.
Ох и интересные же названия северных деревень! Заполица, значит за полем. Заднее, Середнее — это видать по расположению. Спросил как-то бабушку Таисию.
— Раз есть Заднее и Середнее, то, где-то же Переднее должно быть?
— Нет, — говорит, — сколько тут живу, отродясь не слыхала.
Уже впоследствии выяснилось, что центром этой местности, когда- то, было село Георгиевское, с величественным храмом и школой. Там же, около храма, был и погост этой округи. Самое дальнее село от храма, потому что за ним был глубокий лес -Заднее. А та деревня, что посередине, между ним и селом Георгиевским называлась — Середнее.
Важное дело на деревне эта Антонина выполняла. Всё про всех знала. За день у неё до десяти человек, бывало, новости расскажут, кто чего видал да слыхал. Многие гостинцы несли. Всех чаем поила, да и сама не один самовар выпивала. А когда уж день к вечеру, из-за стола вставала и крестилась, приговаривая: «Бог напитал, никто не видал…». Закрывались окна, задвигались ситцевые занавески для того, чтобы вновь, на завтра, раскрыться для свежих новостей.
Забавно это звучало и не укладывалось в моей голове, как это — вся деревня видала, как пила и ела. И вдруг, Бог напитал, никто не видал…
Вот и поди ты…
Протоиерей Евгений Палюлин.
На Введение во храм Пресвятой Богородицы, декабрь 2021.